Родственные проекты:

|
Мария Бок
Воспоминания о моем отце
П.А.Столыпине

Будущая Мария Петровна Бок,
а пока еще Матя Столыпина,
в обществе папы и мамы.
Часть первая
Глава IV
Кроме текущей предводительской работы, у папá было все время стремление
создавать что-нибудь новое. За его службу в Ковне, сначала в должности уездного,
а затем губернского предводителя дворянства, многое им было проведено в жизнь и
многое начато. Любимым его детищем было Сельскохозяйственное Общество, на
устройство которого он положил много времени и сил, и работа которого вполне
оправдала его надежды. Был при нем склад сельскохозяйственных орудий, устройство
которого особенно увлекало папá.
Молодой, энергичный и деятельный мой отец рьяно принялся за работу с первого же
дня своей службы, и до последнего дня с тем же интересом предавался ей, кладя
все свои силы на то, чтобы в своей сфере создать всё, от него зависящее, для
процветания края. Кроме Сельскохозяйственного Общества и склада, по его почину
был построен в Ковне Народный дом и много времени он проводил там, следя за
устройством ночлежного отделения, чайной, за правильной постановкой чтения для
рабочих и народа вообще; за устройством представлений и народных балов. Мои
родители всегда ездили на эти представления и, помню, с каким энтузиазмом они
рассказывали о первом представлении кинематографа, об этих «удивительных
движущихся картинах». И моя гувернантка, и я слушали, не веря ушам, как в этом
новом «волшебном фонаре» ясно видно, как дети дерутся подушками, видны их {32}
движения, виден летающий по воздуху пух, вырывающийся из лопнувшей подушки.
Но вообще вечера, когда родители уезжали из дома, были редки. Кроме посещения
нескольких представлений за зиму в Народном доме, они изредка бывали в городском
театре, но почти исключительно на гастролях проезжавших через Ковну
знаменитостей. Ковна лежала по дороге из Петербурга в Берлин и случалось, что
ездившие в турне артисты оставались на один, два дня у нас, и тогда конечно
маленький ковенский театр бывал битком набит публикой.
Еще реже случалось, чтобы папá и мамá проводили вечера в гостях, у нас же
близкие знакомые и друзья бывали часто. Приходили они поздно; сразу же после
обеда, мой отец всегда уделял часок нам, детям. Сначала я одна слушала сказки, о
которых я уже упоминала, а потом и сестры, понемногу подраставшие, уютно
усаживались вокруг папá на оттоманке в кабинете. После сказок, игр и разговоров
их посылали спать, а папá садился за письменный стол: что-то писал, что-то
подписывал. Приходил секретарь с бумагами и долго, стоя рядом со столом, о
чем-то мне непонятном докладывал; и клал перед папá бумаги для подписи. Годами
помню я ту же картину по вечерам: мой отец за письменным столом, моя мать на
диване с работой. Иногда кто-нибудь из друзей рядом с ней. Ведется общий
разговор, в который изредка вставляет свое слово папá, повернувшись на своем
стуле с круглой спинкой. Потом, когда Казимир приносит вечерний чай, папá
пересаживается к остальным и, если есть гости, то разговаривают до десяти,
одиннадцати. Если же мои родители одни, то читают вслух друг другу, а ровно в
одиннадцать идут спать. Так были прочтены почти все исторические романы
Валишевского, так читалось «Воскресенье» Толстого, когда оно печаталось в
«Ниве», и {33} многое другое из русской, французской и английской литературы.
Эти уютные вечера я помню с самого детства моего до 1902 года, когда папá был
назначен Гродненским губернатором, и когда уклад всей нашей жизни резко
изменился.
Из маленького домика на Лесной улице в 1892 году мы переехали в большой дом на
Соборной площади, в котором занимали сначала одну часть второго этажа, а потом,
по мере рождения детей, прибавлялось по комнате, и нами постепенно был занят
весь этаж.
Сразу же после обеда, до того, чтобы перейти уже на весь вечер в кабинет, мамá
садилась к своему письменному столу в гостиной, являлся повар и приносил счета и
меню на следующий день. Счета эти составляли мучения моей матери, всегда до
щепетильности аккуратной, но очень плохой математички: как-то выходило, что
вечно копейки сходились верно, а рубли нет и то и дело призывался на помощь папá,
который с улыбкой садился за приходорасходную книгу, проверял итог и, поправив
всё дело, уходил снова к себе.
Двери были все открыты, кроме редких случаев, если был кто-нибудь вечером у папá
по делам и я, сидя за приготовлением уроков в столовой, с интересом слушала
что-то будет завтра к завтраку и обеду, и от души смеялась, когда папá
вмешивался в этот хозяйственный разговор. Стоит, например, старый повар
Станислав, а мамá говорит ему:
— Что ты всё котлеты даешь, дай завтра курицу.
— Курицу, — глубокомысленно повторяет Станислав, — курицу купить надо.
— А ты попробуй, укради, — раздается голос папá из кабинета. Мамá весело
смеется, а Станислав, не понимая шутки, с недоумением смотрит на дверь.
Обедали в те времена в шесть часов и лишь под самый конец ковенской жизни в
семь, так что вечера {34} были длинные.
Завтракали в половине первого. После обеда взрослые пили кофе за столом, а детям
разрешалось встать. Когда мамá кто-нибудь дарил конфекты, они хранились у папá в
письменном столе, и мы получали после обеда по одной конфекте.
— Ну, дети, бегите в кабинет за конфектами, — говорит мой отец, а моя маленькая
сестра Олечек вдруг громко с чувством восклицает:
— Папá, как я вас люблю!
— Только за конфекты и любишь? — говорит, смеясь, папá.
— Нет, тоже и за подарки, — говорит Олечек, глядя своими честными детскими
глазами прямо в лицо отца.
Долго ее, бедненькую, дразнили этой фразой. Так и протекли мирно и счастливо
двенадцать лет нашей жизни в Ковне. Ежегодно: пять месяцев в Ковне и семь
месяцев в Колноберже, нашем имении Ковенской губернии. И эти годы мой отец всю
свою жизнь вспоминал с самым теплым чувством, как и всех своих сослуживцев,
подчиненных и помощников по Сельскохозяйственному Обществу, одинаково как
русских, так и поляков.
Училась я дома, сначала с моей матерью и гувернантками, потом с учительницами
приходящими к нам на дом и о приходе которых Казимир докладывал:
«Мария Петровна, м-учительница пришла», а потом и с учителями Ковенской
гимназии. С третьего класса я стала сдавать при гимназии экзамены, и мои
родители с большим вниманием, следили за моими уроками, справляясь ежедневно у
учителей о моих успехах и внимании и часто сами присутствовали на уроках. Я
училась в комнате рядом с кабинетом папá. Когда он бывал дома, то всегда
открывал двери, чтобы слышать урок.
А из арифметических задач, заданных в виде {35} домашних работ, я кажется
никогда ни одной не решила без помощи папá. Промучившись целый час над
бассейном, наполняющимся через две трубы, одну широкую, другую узкую, или над
тем, сколько сделает в данное время поворотов большое колесо и сколько
маленькое, идешь с тетрадкой и задачником Малинина и Буренина к папá, зная, что,
если только он не занят экстренной работой, то отложит в сторону бумаги или
книгу, возьмет твою тетрадь, испачканную десятком неправильных решений, и
ласково скажет:
— А ну-ка, давай подумаем вместе.
Иногда сразу же удавалось решить задачу, но бывало и так, что папá решит ее
тотчас же в уме, посмотрит ответ — верно, а объяснить мне никак не может:
— Алгебраически я тебе сразу объясню, — говорит папá, а как это делается
арифметически, надо подумать.
Я шла готовить другие уроки, а папá, найдя ясное и точное объяснение, звал меня.
А раз было так. Помню, что дело шло о цене коляски и дрожек. Папá, просидел над
этой задачей довольно долго, послал меня спать, а утром я нашла на своем столике
бумагу, на которой красиво и четко была написана решенная задача, а в конце
стояла приписка:
«Остается нерешенным вопрос, где продаются такие дешевые экипажи?».
Должна сознаться, что я всегда честно каялась учителям в том, что задачи решаю
не одна. Учителя были все очень хорошие, и уроки всегда интересны, только
несчастная математика с Аароновым очень уж приходилась мне не по душе — и
предмет нелюбимый, мало понятный и сухой, и учитель менее других умеющий внушить
любовь к науке. И в гимназии Ааронова тоже не любили и ученики всегда с
злорадством представляли, как он задает задачу, а потом, углубившись в нее,
говорит:
— Ну, это трудновато, я вам завтра объясню.
{36} На следующем уроке, когда его спрашивали про эту задачу, он говорил:
— Задача неинтересна, возьмемте другую.
Раз мои родители увидали его в театре Народного дома, и когда на следующий день
он пришел ко мне на урок, папá спросил его, понравилось ли ему там? На это
Ааронов ответил, что представление то хорошее, но публика плоха, и что он там
«подвергся оскорблению Товия». Мы так и не поняли, что это значит, и как-то
стеснялись показать свою необразованность и спросить объяснения. Долго эта фраза
оставалась для нас загадкой, пока, наконец, кто-то из знакомых не сумел
объяснить, что Товий, по Библии, был оплеван народом. После этого инцидента
бедный наш математик окончательно упал в глазах своих учеников, которые, вместо
того, чтобы пожалеть, подняли его на смех.
Но зато другие учителя, особенно преподаватель русской словесности, были очень
хороши, и я с удовольствием ждала уроков.
К весне уроки делались труднее, учителя взыскательнее, чувствовалось приближение
экзаменов. Но, несмотря на это, училось легче, всё казалось интереснее и
значительнее, когда начинало пригревать солнце, позже зажигались лампы, и всё
ближе и ближе придвигался день переезда в Колноберже.
А когда Казимир первый раз настежь открывал замазанные на зиму окна, и комнаты
вечером вдруг наполнялись торжественным гулом большого соборного колокола и
сладким запахом тополей, становилось на душе так светло, что и экзамены не
пугали, и вся жизнь представлялась радостным праздником.
Ко всенощной я ходила почти всегда с матерью, а к обедне с отцом. После же
обедни, каждое воскресенье папá ходил покупать со мной в кондитерскую угощение
на «танц-класс». Модные кондитерские были в то {37} время — Перковского и
«Ренессанс». Рассказывали, одна девочка в гимназии на вопрос учителя, как
называется еще иначе «эпоха Возрождения» ответила: «Перковский» вместо
«Ренессанс».
У Перковского покупателю давались бумажные салфеточки со стихами, приводившими в
восторг папá и начинающимися так:
Когда теснится в сердце грусть,
Когда гнетет тебя сомненье,
Когда карман твой лишь не пуст —
Ты у Перковского забвенье
В его кондитерской найдешь,
Душе покой там обретешь.
Чего, чего там только нет.
Каких bonbons, каких конфект
Торт...
и следовал длинный перечень (всё в стихах) всевозможных изделий кондитерского
искусства, весьма разнообразных и весьма многочисленных. Папá очень забавляло
нарочно спросить какое-нибудь печенье с замысловатым названием из поименованных
на бумажке, но так и не удалось поймать приказчика: немедленно приносились и
торт «Фантазия», и всё, что было указано в стихах.
После завтрака мы шли переодеваться, а ровно в три часа из столовой, где Казимир
уже успел отодвинуть стол к стене, доносились звуки рояля. Тапер играл «шаконь»
или «падепа-тенер» (так был обозначен модный тогда «Pas de patineur» в программе
учителя танцев Лейкинда). Сам Лейкинд, во фраке, ходил по комнате и ждал
учеников, которые скоро и являлись. Девочки в легких платьицах, мальчики в
матросках и гимназических мундирах становились в ряд и сначала изучали
«позиции», а потом танцевали. Родители сидели с мамá тут же за чайным столом.
Раза два за урок заходил посмотреть на нас и папá. А однажды, {38} когда у нас
гостили дядя Сергей Дмитриевич и тетя Анна Борисовна Сазоновы, и собралось много
народу, неожиданно организовался целый бал. Танцевали все родители, а Лейкинд с
вдохновением носился по зале, дирижируя настоящим балом.
На второй день Пасхи мамá устраивала детский бал, на котором мы танцевали уже
без Лейкинда, выученные за зиму танцы. Один раз кто-то из нас, детей, накануне
Пасхи заболел гриппом. Зараза мигом перекинулась на других, и ко дню бала были
больны не только все пятеро детей, но и папá, и гувернантка и часть прислуги.
Одна почти никогда не болевшая мамá была и тут здорова. Надо было срочно писать
отказы всем приглашенным. Мамá сидит за своим письменным столом в гостиной. Папá
лежит в кабинете на оттоманке. Когда мой отец бывал простужен, у него сразу
подымалась температура и всё время, даже при легкой простуде, он то спал, то
находился в полузабытье. Когда же он просыпался, то шутил и старался быть
веселым. Мамá громко говорит: «Вот скучно писать эти карточки... и ведь надо
стиль варьировать», а папá, очнувшись на минуту из полудремоты, тут же отвечает:
— А ты не старайся так, а напиши всем одно и то же, но в стихотворной форме,
могла бы даже дать напечатать. Например так:
Плохи делишки,
Больны детишки,
И детский бал
Совсем пропал!
{39}
К оглавлению
Электронная версия книги воспроизводится с сайта
http://ldn-knigi.lib.ru/
OCR Nina & Leon Dotan
ldnleon@yandex.ru
{00} - № страниц, редакционные примечания даны
курсивом.
Здесь читайте:
Столыпин Петр
Аркадьевич (биографические материалы).
Россия
в первые годы XX века (хронологическая таблица).
Вадим Кожинов. Россия век XX (1901 - 1939).
Глава 3. Неправедный суд.
Столыпин Аркадий Петрович.
Крохи правды в бочке лжи.
О книге В. Пикуля «У последней черты».
Программа реформ
П.А.Столыпина. Том 1. Документы и материалы. М.: «Российская политическая
энциклопедия», 2002
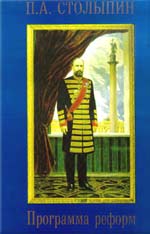
Программа реформ
П.А.Столыпина. Том 2. Документы и материалы. М.: «Российская политическая
энциклопедия», 2002
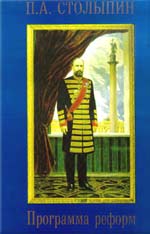
Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн,
2004.

Бок М.П. Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине.
Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1953.
Столыпин П.А. Дайте
России покой!
Столыпин Аркадий Петрович.
Крохи правды в бочке лжи.
О книге В. Пикуля «У последней черты».
Платонов О.А. История русского народа в XX веке.
Том 1 глава 27
и глава 28.
Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3.
Ковальченко И.Д.
Столыпинская аграрная реформа.
(Мифы и реальность).
Анна Герт Столыпинская
утопия в контексте истории. Корнейчук Дмитрий.
Аграрные игры. - 15.03.2007
Тайна
убийства Столыпина (сборник документов)

Богров Дмитрий Григорьевич
(1887-1911). Из еврейской семьи, убийца Столыпина.
Богров В. Дм. Богров и убийство Столыпина. Разоблачение "действительных и
мнимых тайн. Берлин. Издательство "Стрела". Берлин. 1931.
Протокол допроса В.Г. Богрова, 9 августа
1917 г.
|