Родственные проекты:
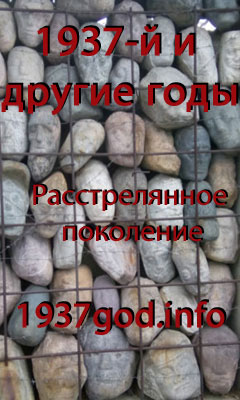
|

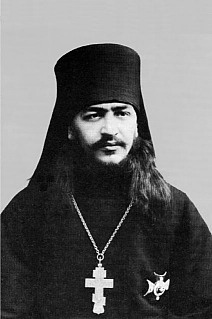
ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО МИССИОНЕРА
ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС
Вы - соль земли. Вы. - свет мира. (Мф.
5,13-14)
Говоря о миссионерской работе, необходимо
упомянуть и о первом (к
сожалению, единственном) Камчатском
миссионерском съезде, проходившем в 1914 году
в селе Иоасафовском на севере Камчатки. Ни
телефона, ни телеграфа между разбросанными
на огромные расстояния
селениями Камчатки не существовало. И тем
не менее устной передачей, крылатой вестью
пронеслось известие о готовящемся съезде
по всем миссионерским станам, по всем
церквам.
Событие это приобретает еще больший смысл,
если мы представим жизнь камчатских
миссионеров, где общение
друг с другом было чрезвычайно затруднено.
Даже встреча двух-трех священников была
событием. Коряки-дикари впервые увидели
здесь соборное торжественное богослужение
с участием диакона, какового они ранее
никогда не видели. Всего лишь за два года до
съезда в селении Иоасафовском, где
собрались миссионеры, не было ни церкви, ни
школы, ни постоянного священника;
не было даже землянок, а люди жили в
грязных ямах-юртах с входом через дымовую
трубу. На ровной снежной площади селения
Иоасафовского, тогда именовавшегося
Тиличиками, было разбросано восемь юрт.
Помню, когда я впервые приехал туда, эти
юрты с отверстиями посредине напоминали
мне маленькие действующие вулканы. Время от
времени сквозь густые клубы дыма из
отверстий показывались человеческие
фигуры коряков и корячек, они пугливо
поглядывали на меня. Вой полутора сотен
собак был мне встречным гимном. С
недоверием и не очень ласково приняли меня
коряки. Даже крещеные всячески старались
уклониться от выполнения христианских
правил, отказывались от венчания, исповеди
и причастия. Русского языка они совершенно
не понимали. Но прошел год, и мы с ними стали
друзьями...
За сотни и тысячи верст съезжались
миссионеры. На собаках, оленях неслись по
снежной пустыне их легкие сани. Некоторые
подвергались смертельной опасности. Так
три священника и четыре псаломщика были
застигнуты на Анапке жестокой пургой.
Несчастные батюшки, занесенные
снегом, вынуждены были отсиживаться в
течение семи дней. Один псаломщик, Е.
Слободчиков, едва не сделался жертвой пурги,
он отстал от своих спутников, почти замерз в
одиночестве, но спасся чудом и, прибыв на
съезд, с умилением отслужил
благодарственный молебен.
Съезд совпал с первой половиной Великого
поста. Ежедневно в Иоасафовском храме
совершались великопостные
богослужения, причем все священники
служили поочередно, и каждый день
произносились проповеди. Храм был
переполнен богомольцами - русскими и коряками.
Все они говели. Поучения произносились для
них как на русском, так и на корякском
языках. Много прибыло и язычников-коряков,
интересовавшихся происходящим.
В первые же дни съезд возбудил огромный
интерес во всех окружных оседлых и кочующих
туземных племенах. Коряки приходили на
заседания, внимательно слушали и глубоко
интересовались всем, о чем там говорилось.
На съезде были выработаны приемы
миссионерской работы, создалась атмосфера
дружественной взаимопомощи и общения.
Мною был сделан доклад, в котором подробно
рассказывалось о положении камчатской
миссии в то время. Вот главные положения
моего выступления.
"Жизнь крещеных тунгусов и коряков (кочующее
племя) протекает вдали от священников-миссионеров
и учителей. Батюшку большинство туземцев
видят раз в год или даже в несколько лет.
Поэтому крещеный туземец,
предоставленный самому себе, за неимением
духовного руководителя в
продолжение кочевой жизни, не помнит свое
православное имя, забывает, как правильно
изображать даже наружный знак молитвенного
общения с Православной Церковью (знамение
креста), не говоря уже о внутренней молитве,
которой он и не научен. Ни учением
православной веры, ни церковной молитвой и
обрядами, ни Святыми Таинствами - ничем еще
не был связан прочно с Православием
камчатский туземец. После
всего этого можно ли удивляться и ужасаться
тому, что он не оставил шаманства, что не
прерывает связи со злыми духами,
умилостивляя их жертвоприношениями. Можно
ли осудить его за то, что он не внимает православному
учению, а слушает наговоры шамана и верит
ему. Ведь шаман живет рука об руку с
туземцем, да нередко и сам-то шаман из тех же
крещеных тунгусов или коряков, а священника
нет поблизости.
Северная природа Камчатской области,
суровая и дикая
обстановка, лишения, болезни, голод,
эпизоотии, холод,
непогода - все это мало радости оставляет в
душе человека, и несчастный, одинокий,
беззащитный дикарь ищет где-либо
успокоения, облегчения от всех этих невзгод
и не находит нигде, как только в колдовстве,
наговорах, заклинаниях и шаманстве. Вот что
значит быть вдали от туземной крещеной
паствы ее пастырю и учителю!
Надеть туземцу крест при крещении и
думать, что уже сделано все нужное, и на этом
успокоиться - этого мы, миссионеры, не
должны допускать. Да не оскорбится слух
доброго пастыря в слышании сей горькой
правды, если только пастырь чувствует себя
по своей совести в этом смысле виновным. Но
мы, миссионеры новообразованной
камчатской миссии, должны осознать такое
горестное положение, должны объединить
свои усилия в деле постоянного и частого
общения с туземной паствой.
Нам ныне, слава Богу, прибавлено
содержание, а с ним увеличивается и
ответственность. Будем же, по мере сил, не
жалея себя и разъездных денег, чаще
навещать туземную
крещеную паству, коснеющую в язычестве.
Бесспорно, есть несколько серьезных
причин, которые снимают часть обвинений с
пастырей-миссионеров, редко посещающих
туземцев. Ведь каждый священник-миссионер
в камчатской миссии в то же время и
приходской священник большого села, где
постоянно приходится выполнять прямые
обязанности по приходу; тут же миссионер
состоит заведующим, а некоторые - даже
законоучителями в церковно-приходских
школах. Все это не дает им возможности
надолго и часто отлучаться к аборигенам,
находящимся на далеком расстоянии и
рассеянным по обширной тундре и горным
хребтам края.
Из всего вышеизложенного видно, что нужно
принять какие-то меры к устранению
препятствий в посещении отдаленных стойбищ
и острожков камчатских туземцев;
необходимо установить более тесную,
близкую, постоянную
духовную связь между крещеными туземцами и
священником-миссионером,
чего можно достигнуть только путем
широкого церковно-школьного строительства.
В доступных местах и районах оседлой и
кочевой жизни туземцев нужно как можно
больше открывать церквей, часовен, школ,
молитвенных домов, миссионерских станов
и походных миссий.
Жизнь крещеных коряков протекает в более
худших условиях, чем тунгусов, так как им
часто приходится жить среди язычников.
Крещеные коряки не знают даже своего
русского имени и называют себя корякским
именем. Я могу привести
сотни примеров, когда при посещении
корякских юрт я спрашивал имя какого-либо
крещеного. Он первоначально называл
прозвище, а когда спросишь русское имя, он
задумается и часто говорит:
"Не знаю" ("ко"). Или бежит в
соседнюю юрту спрашивать
старух или стариков, не знают ли они, как его
зовут по-русски, потому-де батюшка
спрашивает. Тут начинают вспоминать и
перебирать имена: Семен, Иван, Петр. В этом
случае не знаешь, что делать, как назвать,
какое из этих имен выбрать, и невольно
согрешаешь. Потом справляешься в
исповедных росписях и сверяешь их с
посемейными списками в уездном управлении,
и оказывается - не Семен, не Иван, не Петр, а
по одной справке Илья, по другой Алексий.
Это не выдумка, а горький факт, который,
наверное, много раз повторялся и
повторяется с каждым священником,
записывающим имена коряков в юртах. Эти
кочующие коряки не знают также и времени
своего рождения, так что приходится
определять его на глаз. Среди коряков еще
прочно держится верование в заклинание
злого духа, а умилостивление его
сопровождается жестоким обрядом
принесения (через заклание) в жертву лучших
ездовых собак. С таким жестоким, грубым и
разорительным верованием дикаря
миссионерам нужно усиленно бороться. Нужно
помнить, что собака для жизни туземца более
необходима, чем лошадь для русского
крестьянина, и цена ездовой собаки,
равно как и охотничьей, - от 50 до 150 рублей.
Борясь с подобными варварскими обычаями,
миссионерам необходимо
установить с коряками более тесную связь и
частое общение. Примером благотворного
влияния на духовно-нравственную
жизнь крещеных коряков может послужить
Иоасафовский миссионерский стан. Видно, что
здесь с постройкой благолепного храма и
школы не только местность просветилась, но
и образ обитателей изменился к лучшему.
Прекратились жестокие
сожжения умерших людей на кострах,
жертвоприношения и
заклинания злых духов, отпадает верование в
колдовство и наговоры, налаживается
законная супружеская
жизнь, оставляется* многоженство.
Отчего все это произошло? Благодаря
влиянию церкви, школы и
тесному общению священника-миссионера с
местным населением. Все мы - миссионеры, и
должны искать удобного случая и
возможности для устройства школ, церквей,
походных миссий, и сами должны уделять
больше внимания, времени и забот
просвещению и спасению
душ туземной паствы".
В завершение съезда прошли крестные ходы.
Все население, еще недавно первобытное,
дикое, приняло праздничный, торжественный
вид. Дома, землянки, школа,
храм были украшены национальными флагами,
всюду красовались
гирлянды из зеленого кедровника и
разноцветной материи. Возле храма высилась
арка с надписью: "Христос посреди нас".
Утром 23 февраля после литургии был
совершен крестный ход к языческому
священному месту - апапелю, где язычники-коряки
почитали присутствие невидимой силы
божества и для его умилостивления
приносили жертвы в виде убитых собак,
оленьего мяса, рога, жира, табака и пр.
После бесед и молитв во время съезда
коряки Иоасафовского села решили раз и
навсегда оставить почитание апапеля и
уничтожить его. На этом месте была в то утро
устроена арка с надписью: "С нами Бог".
Стоя у апапеля, я спросил язычников-коряков:
- Что это такое?
- Это наш апапель, где мы умилостивляем
злого духа.
- А это что такое? - спросил я, указывая на
церковь.
- Это твой апапель, - отвечали язычники, -
где живет добрый дух.
- А для чего же вам два апапеля, может быть,
довольно одного?
Тогда коряки-язычники заявили:
- Пусть будет один твой апапель, а наш
худой (дурной) нам больше не нужен.
Коряки единодушно обещали больше не
почитать апапеля, вырыли на этом месте яму,
сложили в нее все остатки прежних
жертвоприношений, часть их сбросили в море,
а на месте апапеля водрузили святой крест.
Закончился съезд праздником,
трогательными играми
туземцев: гонками на собаках и оленях,
борьбой, бегом скороходов и прочими
излюбленными развлечениями туземцев.
Победителям я раздавал подарки. Вечером
были устроены иллюминация, бенгальские
огни, ракеты, фейерверк.
Надо было видеть восторг и удивление
дикарей на этом чудесном зрелище. Их
наивная, искренняя
радость невольно передавалась и нам.
В понедельник 24 февраля молебном с
акафистом святителю
Иоасафу официально съезд закончился. На
память о нем все священники, его участники,
получили в подарок по полному комплекту
церковного облачения, которые были
приобретены благодаря Камчатскому
братству.
Примечания:
* Оставляется (ц.-слав.) - прекращается
Вернуться к
оглавлению
Далее читайте:
Нестор
(Анисимов Николай Александрович) (1884-1962), митрополит.
Епископ Нестор.
Расстрел
Московского Кремля (документ).
Караулов
А. К., Коростелев В. В.
Арест экзарха // Русская Атлантида.
- Челябинск: 2003. № 11. - С. 11- 26.
Караулов А. К. , Коростелев
В. В. Поборник церковного
единения (к 40-летию со дня блаженной
кончины митрополита Нестора)
Караулов
А. К., Коростелев В. В. Экзарх
Восточной Азии // Русская Атлантида.
- Челябинск: 2003. № 9. - С. 17- 24.
|